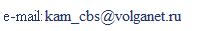Кибальников Сергей Александрович (1929 – 1999)
Опубликовано - 1 января 1970 г. 9:32, Изменено - 7 июня 2023 г. 11:03 в Камышане - это мы - просмотров 119

Кибальников Сергей Александрович (1929 – 1999) - писатель, поэт, драматург.
Сергей Александрович Кибальников родился 1929 года в с. Слюсари Котовского района Волгоградской области. Образование — высшее.
Сергей Кибальников прошел трудовой путь от рабочего до генерального директора завода стеновых материалов.
Литературной деятельностью занимался с 1952 года. Писал прозу, поэзию, написал несколько пьес, посвященных армейской жизни.
В 1989 году вышла из печати книга Сергея Александровича «А жизнь продолжается...», в которой были опубликованы одноименная повесть, рассказы и очерки разных лет; в 1995 — роман-дилогия «А годы летят, словно птицы...». В 1998 г. была издана трилогия «Судьбы людские».
Сергей Александрович умер 1999 года.
Литература о жизни и творчестве:
- Сергей Кибальников // Заветная строка: сб. стихов камышинских поэтов. – Камышин, 1998. – С. 41.
- Кирпич, на котором стоит город / В. Мамонтов, В. Федорков // Город нашей судьбы // В. Мамонтов, В. Федорков. - 2006. – С. 224-225.
***
- Бронченко, В. Ох, уж этот Кибальников! / В. Бронченко // Ленинское знамя. - 1988. - 7 сент. (№ 144). - С. 3.
Издание произведений:
- А годы летят, словно птицы…: роман в двух книгах / Сергей Кибальников. – Камышин,1995. – 219 с.
- Судьбы людские: трилогия / Сергей Кибальников. – Камышин,1998. – 287 с.
- Стихи / Сергей Кибальников // Заветная строка: сб. стихов камышинских поэтов. – Камышин, 1998. – С. 42 – 52.
Отрывок из произведения:
"А жизнь продолжается": повесть
«Не все же разглагольствовать
о том, каким должен
быть человек, пора и стать
человеком».
Марк Аврелий.
ГЛАВА I.
ГОДЫ ТЯЖЕЛЫЕ
Голод в Поволжье 1921 года был следствием неурожая и унес тысячи жизней; голод 1933 года был еще более опустошительным... Наиболее тяжелые трудности для населения региона были созданы преднамеренно, деятельностью отдельных антинародно настроенных группировок, окопавшихся в руководстве областей, районов и в колхозах Поволжья, прилагающих все усилия к тому, чтобы посеять панику, породить недовольство провокационными действиями властей, разрушающих вековые устои российской деревни. Проводя разъяснительную работу методом угроз, а в ряде случаев с наганом в руках, искали врагов не только среди зажиточной части населения, но и среди середняков, загоняя в колхозы всех подряд, создавая взрывоопасную обстановку, массовое возмущение народа и тем самым подрывали неокрепшее колхозное хозяйство и, главное, веру людей в новую, неизвестную жизнь—в коллективное ведение, распределение урожая с учетом не только работающих, но и едоков.
В амбарах колхозов лежал хлеб, а колхозники умирали от истощения, все оправдывалось «происками врагов народа». Часто в стан врагов зачисляли людей, не имеющих понятия о проводимой политике. Как в самой партии, так и в группировках разного толка. Но людей арестовывали, семьи выселяли и не многие из них остались живы. За уход из колхоза строго наказывали. Голод убивал наиболее слабых и заставлял бороться за жизнь одних и других. Голод и смерть вынуждали людей побороть страх перед властью. Люди уходили из колхозов семьями, бросали все. Единственное желание было спасти жизнь свою и детей. Не всем удавалось уйти и увезти семью. Имели место случаи, когда людей отлавливали как зверей, возвращали в колхоз, а иных, «для порядка», судили за «контрреволюционную деятельность, направленную против организации колхозов. Их увозили в тюрьму. Как правило, никто из них не возвращался к своей семье; иные, что было крайней редкостью, возвращались. Удавалось ли им бежать из мест заключения или их отпускали за отсутствием вины—об этом никто не спрашивал.
Они шли домой, но не находили свою семью—они вымерли и их, как правило, хоронили в общих могилах, названных позже «братскими». Так что возвратившиеся не имели возможности отыскать захоронение своих близких. Поделиться своим горем и минутной радостью от того, что удалось выжить.
Из огромного степного села в семьсот восемьдесят дворов к весне 1933 года живых подворий осталось немногим более сотни, часть населения выехала, спасаясь от голода, или их вывезли в порядке раскулачивания. Таких были единицы. Остальные никуда не уезжали, они просто умерли от голода. И самым страшным было то, что трупы умерших людей лежали в домах, сараях, во дворах и даже на улицах, занесенные снегом, там где их застала смерть.
Приближение весны сулило спасение тем, кто доживает до дня, когда в степи, на оттаявших полянах, появятся после зимней спячки суслики. Их можно будет отлавливать и употреблять в пищу. Несколько позже в лесах люди будут собирать молодые побеги крапивы, лебеды и других трав, которые можно как. то приспособить для еды. В этом люди искали свое спасение и ожидали окончания зимы с нетерпением. Наступление весны было спасением для тех, кто сможет дожить, но надо было не допустить эпидемии от разлагающихся трупов и это понимало все взрослое население. Наступление оттепели грозило большой бедой, помощи ждать неоткуда. В соседних селах было то же...
Председатель сельского Совета, сам опухший от голода, передвигающийся с большим трудом, обходил улицы родного села, просил людей, способных передвигаться, выходить на захоронение умерших. На кладбище общими усилиями вырыли несколько больших ям под общие могилы, и люди, чудом выжившие, в силу необходимости надвигающейся не менее страшной беды, чем голод—возможной вспышки эпидемии—результата разлагающихся трупов, шли на похоронные работы, сами до крайности изможденные, обессилевшие от истощения, свозили на колхозных лошадях своих односельчан. Их хоронили в том, что было на них в последние минуты жизни, их некому было переодевать, родные не провожали в последний путь...
Вид колхозных лошадей был не лучше сопровождавших их людей. За длинную снежную зиму на корм лошадям пошли соломенные крыши конюшни и ряди, теперь уже бесхозных домов. Животные были крайне истощены и едва передвигали ноги. Они были голодны, но не менее голодны были люди, сопровождавшие телеги с трупами. Так работали неделю. Людям, работающим в похоронных командах, из колхозного амбара в конце отработанного дня отпускали по килограмму фуражного зерна, которое в предыдущие годы шло на корм скоту, но люди, падающие от голода, рады были и этому «пайку», спасавшему их жизни.
Кто предложил забить двух лошадей, осталось не выясненным, но к исходу последнего дня недели лошадей убили за селом, разрубили на куски и мясо унесли по домам...
Тэги: Кибальников известные камышане камышинские поэты камышинские писатели камышинские драматурги